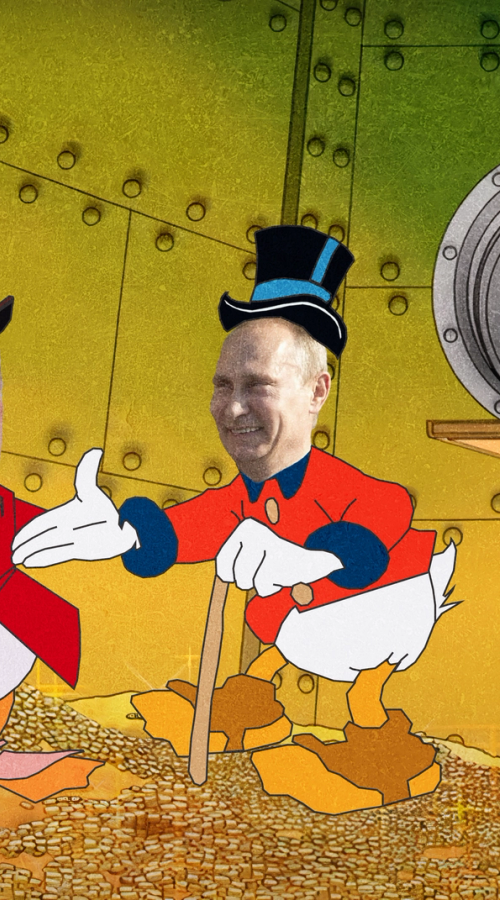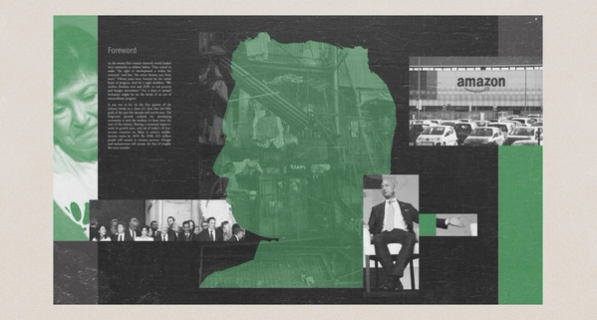Если вы находитесь в России или планируете в нее возвращаться, вам нельзя репостить наши материалы в соцсетях, ссылаться на них и публиковать цитаты.
Подробнее о том, что можно и нельзя, читайте в карточках.
«Бессмысленная война», «тарифное безумие» — о политике таких фигур как Путин и Трамп всё чаще говорят так, будто они просто сошли с ума и их решения не подчиняются здравому смыслу. Однако по мере того, как эти решения меняют мир, приходится задуматься: возможно, за ними какая-то логика?
Социолог Александр Бикбов предлагает описывать новую идеологию правящего класса как неомеркантилизм. Если раньше нормой считались глобализация и международная торговля, то в новой реальности — по обе стороны океана — всё чаще говорят о суверенитете, крепких границах, национальных интересах и… золоте.
Мы поговорили с ним о том, как этот термин помогает понять логику современной мировой политики и экономики, и к чему может привести возрождение экономического и политического национализма.
- РедакторРедакторАрмен Арамян
- ИллюстраторИллюстраторВитя Ершов
- Публикация4 августа 2025 г.
В своих работах вы выделяете два периода экономической политики постсоветской России: неолиберализм, характерный для девяностых и нулевых, и неомеркантилизм, который укрепился в десятые. Давайте начнем с неолиберализма — в чем заключалась суть этой политики?
Суть неолиберальной политики — рост производительности труда и рентабельности во всех секторах, в том числе принципиально нерентабельных, таких как образование и культура. Считалось, что этого можно достичь несколькими простыми инструментами: приватизацией госсектора (под лозунгом «частное лучше»), принуждением работников к гибкости и конкуренции (чтобы разрушить социальное «иждивенчество») и государственными инвестициями в технологии (индустриальные и управленческие). Вера в силу технологий порой доходила до абсурда, как это было с анекдотическими по результатам и циклопическими по затратам нанотехнологиями. Но были и куда более реалистичные заходы: реформа госслужбы по коммерческим лекалам, программы непрерывного обучения или насаждение конкуренции в культурном секторе.
В «нерентабельных» образовании и культуре переход на управленческие технологии, перестроенные по неолиберальным шаблонам, в целом, был самым заметным, поскольку проводился по рецептам шоковой терапииШоковая терапия — это радикальный экономический курс быстрых реформ для перехода от плановой экономики к рыночной. Обычно включает мгновенную либерализацию цен, приватизацию государственных предприятий и снятие контроля государства над рынком. Такой подход предполагает, что резкие меры быстрее стабилизируют экономику и запустят рост. На практике шоковая терапия часто приводит к резкому росту цен, безработице и социальному неравенству. Наиболее известный пример — реформы в России и Восточной Европе в начале 1990-х годов..

Так, в конце 2008 года во всем госсекторе за один месяц отменили единую тарифную сетку, которая действовала предыдущие 72 года. Наемных работников по одному вызывали в руководящие кабинеты и заставляли подписать согласие перейти на новую, прекарно-премиальную систему оплаты труда — или уволиться. На протяжении 2010-х научных и культурных работников перевели на так называемые «эффективные контракты», которые связывают доходы и срок найма с показателями индивидуальной производительности и рентабельности. Сегодня в образовании не существует бессрочных контрактов: они заключаются на срок от года до пяти лет, вне зависимости от академической репутации, списка публикаций и научных открытий. Редкие исключения носят локальный характер, то есть остаются привилегией двух-трех столичных вузов.
Принятый в 2010 году закон о бюджетных учреждениях фактически коммерциализировал государственные институты, без их номинальной приватизации. Он обязал учреждения госсектора (школы, детские сады, больницы, университеты) к самоокупаемости и к продаже части своей работы как коммерческих услуг, которые люди оплачивают из семейных и личных бюджетов, до этого уже заплатив налоги на содержание этих учреждений.
Все эти меры были нацелены на усиление конкуренции между отдельными работниками, группами и институтами. Целью было повысить производительность труда, создать нестабильную занятость и пошатнуть социальную защиту: эти меры возведены неолиберальной догмой в ключевой принцип эффективности. Сочетание двух этих факторов — демонтаж социальных гарантий и стимулирование производительности через конкуренцию — составляет суть неолиберальной модели, которая внедрялась в России агрессивно и зачастую негласно, без идеологического оформления, характерного для неолиберальных реформ в западных странах. Более того, неолиберальные рецепты часто внедрялись под прямо противоположными, архаизирующими лозунгами национального единства и традиционных ценностей.
За происходящим в России стоят не «хтонь» и «ужас», а вполне рациональная, пусть и трагическая логика
Такие сбои идейного сопровождения часто вводили и вводят в заблуждение. Многие готовы поверить, будто во всем мире — неолиберализм, а в России и, пожалуй, в Беларуси — диктатура. Подобный взгляд, конечно, ошибочен. Мировое экономическое состязание, в которое постсоветские общества включились еще в 1990-е, построено на общности управленческих технологий. Важно признать: за происходящим в России стоят не просто силы, поэтически называемые «хтонь» и «ужас», а вполне рациональная, пускай и трагическая по своим последствиям логика.
К концу 2010-х неолиберальная политика привела к ощутимому размытию низовых форм сопротивления и к атомизации. Когда работники подчинены диктату индивидуальной эффективности, гибкости и нестабильности, управлять ими становится проще, чем когда они организованы в коллективы — будь то структуры, ностальгирующие по советскому порядку, или формы самоуправления, зарождавшиеся в 2000-е и 2010-е годы.
Вообще, первый пик трудовой демократии пришелся на самый конец 1980-х и начало 1990-х, когда коллективы предприятий, студенческие протесты и новые профсоюзы, ученые советы стали центрами дискуссий, а зачастую и антиавторитарных решений в регуляции труда. Экологическое и антиатомное движение, анархо-синдикалисты с одной стороны и ленинисты с другой, малые издательства и книжные кооперативы — все это бурлящее разнообразие рождалось на пересечении сферы труда, культуры и возникшего тогда поля политики.

Конец этому периоду положили не прямые политические репрессии, а сублимация утопии в соблазнах и жестокости рынка. Некоторые прежние активисты вернулись к коллективным проектам лишь десятилетия спустя, уже в рыночных реалиях, при господстве политической депрессии, а не общественного подъема. На публичной сцене также появились новые коллективные участники: независимые профсоюзы, группы муниципальной и экологической политики, благотворительные и антидискриминационные платформы, гендерные и ЛГБТК+ сети. До середины 2010-х для этих форм коллективности большей угрозой оставались даже не полицейские репрессии, а нехватка времени и произвол работодателей или региональных властей.
Вы пишете, что в течение 2010-х происходит переход к неомеркантилистской политике. В чем она заключается?
Действительно, в десятые годы происходит поворот к новой модели — экономическому национализму, как его обозначает экономист Бьорн Хеттне, или неомеркантилизму. Страна движется в сторону автаркии — замкнутой, производственно, финансово и идеологически суверенной системы, которая не отменяет, а перехватывает и переподчиняет себе неолиберальные технологии управления.
Эта политика проявляется в трех параллельных процессах: во-первых, в финансовой независимости от внешних рынков и росте государственного золотого запаса; во-вторых, в ориентации на импортозамещение, производственный суверенитет и перенос ключевых производственных мощностей на территорию России; и в-третьих, в укреплении положительного торгового баланса.
Важная характеристика неомеркантилистской практики — суверенитет финансовой системы. Он должен быть обеспечен своего рода «фиктивным активом» — запасами золота и валюты, изъятыми из циклов производства и потребления. При их помощи правительство гарантирует устойчивость системы без внешних займов. В российском случае такой запас первоначально создавался, чтобы защитить экономику от внешних потрясений, подобных мировому финансовому кризису 2008 годаМеждународный финансовый кризис 2008 года стал крупнейшим экономическим потрясением со времён Великой депрессии, начавшись с краха ипотечного рынка США и стремительного обесценивания производных финансовых инструментов, связанных с рисковыми кредитами. Массовая невыплата по ипотеке привела к банкротству крупнейших банков, включая Lehman Brothers, вызвав цепную реакцию по всему миру. Финансовые рынки обрушились, началась рецессия, затронувшая промышленность, занятость и потребление в большинстве развитых стран. Правительства были вынуждены вмешаться беспрецедентными мерами — от массовых банковских спасений до программ количественного смягчения — чтобы стабилизировать экономику и восстановить доверие к финансовой системе. .
В целом, механизм, типичный для рентных экономик — это создание так называемых суверенных фондов (резервных, стабилизационных, пенсионных), куда правительства откладывают избытки от продажи нефти, газа и других прибыльных статей внешней торговли.
В Норвегии, где самый большой суверенный фонд (основанный на доходах от нефти), значительная его часть инвестирована в технологические компании по всему миру. Свой небольшой золотой госзапас норвежское правительство попросту распродало в 2004 году. Схожей политики придерживается правительство Канады. Это яркие примеры того, как избытки сырьевой торговли и государственные финансовые пассивы инвестируются в экономический рост. Здесь суверенные фонды подчиняются логике либерального капитализма.
В России практика прямо противоположная. С начала нулевых и до кризиса 2008 года основными вложениями российских суверенных фондов были устойчивые валюты и долговые обязательства иностранных государств, то есть спекулятивные инвестиции с малым риском. После мирового кризиса 2008 года Центробанк стал стремительно наращивать еще более стабильный и при этом самый пассивный запас — физическое золото. С 1998 по 2007 год вес золотых слитков в подвалах Центробанка уменьшился на четверть. Но в следующее десятилетие, с 2008 по 2023 год — вырос в пять раз.

Показательно, что в 2014 году, во время первой украинской войны — аннексии Крыма, вторжения на восток Украины и международных санкций — золотой запас не только не расходовался, но по-прежнему рос. Подвалы ЦБ стабильно пополнялись до начала полномасштабной войны: золото поступало с российских приисков после переработки, закупалось на международном рынке, по некоторым сообщениям, нелегально ввозилось из Судана и других африканских стран.
Накопление было целенаправленным и стратегическим. И если изначально оно было экстренной страховкой от глобальных финансовых потрясений, по мере суверенизации экономики золото приобрело особый, символический статус — воплотив фантазм стабильности и самодостаточности, а не реальный экономический рост. Такое накопление «фиктивных» гарантий экономической устойчивости восходит к эпохе классического меркантилизма, когда мощь государства измерялась объемом его металлических резервов.
По-настоящему расходовать этот запас начали на пике военных действий. По открытым данным, за 2023-й и 2024-й было распродано и переведено в акции крупных российских компаний порядка 6% слитков. Это переломный момент, к которому вели последние десять лет накопления, отнятого у экономического роста.
Апофеоз меркантилизма: все потребляемое внутри страны должно там же и производиться
Другая важная черта неомеркантилистской политики — это положительный торговый баланс внешней торговли, то есть значительное преобладание экспорта над импортом. Здесь дело не только в протекционистских пошлинах для национальных производителей, как-то описывали наблюдатели в первый президентский срок Трампа. В меркантилистской оптике страна, которая закупает иностранных товаров и услуг больше, чем продает, считается несуверенной.
Недостижимый сегодня апофеоз меркантилизма: все потребляемое внутри страны должно там же и производиться. В этом состоит смысл пресловутого «импортозамещения» в стратегических секторах и в сфере питания, которого с 2014-го безуспешно добивается российское правительство. Мы видим, как сегодня администрация США озвучивает схожие идеи, связывая экономическую безопасность и военную мощь страны с восстановлением внешнеторгового профицита, которого не было с 1975 года.
Вы предлагаете описывать эту политику понятием неомеркантилизм, а в чем заключалась суть «изначального», классического меркантилизма?
В мировой истории нет единой модели «классического» меркантилизма, как нет общепризнанной теории, меркантилистской доктрины или ее основоположника. Скорее, это обозначение, которое задним числом дали технологиям управления в странах Европы, с начала 17 и до середины 19 века находившихся в долгой фазе создания национальных государств, интенсификации международной торговли и колониальных завоеваний.
От страны к стране эти технологии могли весьма ощутимо различаться. Во Франции преобладал так называемый финансовый меркантилизм: попытки обеспечить производство и торговлю достаточным объемом денег. В Британии приоритет отдавался профициту внешней торговли. В Испании основой национального могущества оставался более архаичный золотой запас.

То, что сближало эти практики — источники богатства и территориального превосходства находились за границами национальных территорий, в пространствах колониальной торговли и войн. В ведущих европейских странах уже в 17 веке были созданы национальные Ост-Индские компании, государственно-частные монополии, которые начинали свою активность с импорта в Европу специй и закончили построением колониальных империй. Так, английская Ост-Индская компания в 18 веке по сути правила Индией, собирала налоги для короны, строила города, перекраивала социальную структуру, а ее армия численно превосходила королевскую.
В общем виде меркантилистская логика, к которой в 2010-е годы обратилось российское правительство, достаточно проста и последовательна: чтобы накопить максимум богатства внутри страны, нужно расширять территорию, на которой это богатство добывается, и блокировать доступ к его добыче другими странами. Это и есть логика колониальной войны как формы экономического и политического господства.
Почему на Западе в итоге отказались от меркантилистской политики?
Меркантилистское управление подвергалось критике уже в 18 веке, которая лишь усиливалась на протяжении 19-го. Причем часто не из гуманных соображений, вызванных колониальной травмой, а из экономических. Свободная торговля представлялась все более выгодной по сравнению с государственно-частной монополией, которая сдерживала инициативу. Все помнят метафору невидимой руки у Адама Смита. Мало кто задумывается, что это прямая критика меркантилистской регуляции, тон которой задал не кто иной, как отец-основатель современной экономики. Но решающая победа либерализма над меркантилизмом во многом обязана последствиям двух мировых войн и гуманизации экономической рациональности.
По завершении второй мировой правительства США, Великобритании и Франции искали практическое решение главного вопроса, который сегодня звучит пугающе актуально. Как не допустить повторения войны в Европе? Ее очевидной причиной был экономический национализм. Когда государства стремятся монопольно владеть стратегическими ресурсами — будь то специи, ископаемые или трудоспособное население — и с этой целью расширяют свою территорию, атакуя соседние, экспансионистские конфликты неизбежны. Чтобы их предотвратить, нужно было сделать так, чтобы страны материально зависели друг от друга. Так была запущена программа европейской интеграции.
История Европейского союза началась в 1948 году со знаменитого рыночного Плана Маршалла и куда менее известного, но совершенно фундаментального Соглашения по углю и стали 1950 года. Последнее предусматривало передачу под совместное управление европейских правительств угольных и металлургических ресурсов Рурской области — ключевого промышленного и военного центра Германии. Идея заключалась в том, чтобы одна страна не могла монопольно распоряжаться ресурсами, критическими для построения военной экономики. За этим соглашением последовали внутриевропейские таможенные союзы, а также протоколы свободного перемещения рабочей силы, которые заложили основу безвизового режима в ЕС.
Такие меры фактически обязали европейские государства к совместному управлению ключевыми ресурсами, резко снизив вероятность войны за их суверенное обладание. Этим были заложены ключевые элементы послевоенного европейского — и шире, глобального экономического порядка, из которого вырос неолиберализм: снижение торговых пошлин и барьеров, беспрепятственный обмен товарами, услугами и рабочей силой, свободное движение капитала. Исходным мотивом здесь была даже не прагматичная жажда прибыли, а стремление завершить меркантилистскую эпоху, с ее национализацией ресурсов, самоизоляцией и неизбежным расизмом.
Мир, возможно, вновь начинает двигаться к череде колониальных войн
Знание о долгом историческом противостоянии меркантилизма и либерализма дает новый взгляд на актуальную расстановку сил. Критика глобальных элит, наднациональных институтов и неолиберальных технологий — которая сегодня звучит не только из левого лагеря, но и от авторитарных правительств — сама по себе уже не гарантирует деконструкции господствующего глобального капитализма. Почему? Потому что она легко встраивается в апологию суверенной экономики и национального капитализма, этих наследников исторического меркантилизма, в пику которому создавалась архитектура послевоенного мира. И это не простая историческая аналогия, а вполне осязаемая траектория, по которой мир, возможно, вновь начинает двигаться к череде колониальных войн.
Переход к экономическому национализму происходит и в США с приходом Трампа. Прежде всего речь идет о массовом введении торговых пошлин, стремление добиться торгового профицита, а также сокращение международных программ гуманитарной помощи.
Либеральная мейнстримная точка зрения заключается в том, что администрация Трампа — собрание эксцентричных, не вполне рациональных людей, которые просто не понимают, как работает экономика. Однако мы говорим о крупнейшей экономике мира, и трудно поверить, что столь серьезный сдвиг может быть продиктован простым невежеством и интуицией нескольких одиозных фигур. Что же на самом деле стоит за разворотом США в сторону протекционизма и торгового национализма?
Конечно, как и в случае Путина, за видимым сумасшествием Трампа и его окружения скрыта своя логика. Мейнстримное объяснение слишком ее упрощает, однако в нем есть рациональное зерно.
Трамп — наследник того американского истеблишмента, который еще в конце 1940-х годов выступал против Плана Маршалла и американских трат на программы международной помощи. В тот период подобная позиция была вовсе не маргинальной. Но за прошедшие десятилетия, по мере внедрения либеральных технологий управления экономикой и населением, стоящая за ней рациональность превратилась в экономический курьез, нонсенс. Сегодня мы наблюдаем, как в лице Трампа маргинализованные фракции господствующих классов достигают высшей власти и решительно меняют устройство институтов — чтобы их указы нельзя было просто отменить сразу по окончании мандата.
Маргинальность Трампа в политическом истеблишменте — иного порядка и масштаба, чем у Путина. Сын богатого девелопера и наследник своего отца, он приобрел управленческие навыки не в таможенном комитете при мэрии Собчака, как будущий российский президент. После неоднократных банкротств он раз за разом поднимался на рынке недвижимости. Но, хотя он и принадлежит к американской элите, его авантюризм и связи с преступным миром лишили его безоговорочной «рукопожатности». Стиль его неизменных жалоб, мелочной лжи и несуразных выпадов в адрес прежних администраций — Байдена, Обамы — ярко об этом напоминает.
Несмотря на возвращение к власти, Трамп продолжает позиционировать себя как обиженный, в том числе ненавистными меньшинствами — точно так же, как это делает Путин, начиная с его Мюнхенской речи 2007 года. Путинский рефрен о том, как систематически унижают Россию и российских представителей на международной сцене, прекрасно рифмуется с трамповскими жалобами на неуважение к Америке и к нему лично.
Оттенки чувства маргинальности и недооцененности отражаются у обоих в своеобразном видении будущего. Если Путина интересует его место в мифологизированной тысячелетней истории России, то Трампа, похоже, больше волнует судьба его вложений и благополучие его детей. При этом ни Путин, ни Трамп вовсе не желают отмены капитализма. Они весьма рационально желают сменить правила его игры, раз им не удается выиграть при существующих. И сколь бы эгоистичны ни были их мотивы, их действия — это продолжение масштабной исторической коллизии, в которой новый меркантилизм оспаривает уже неолиберальную модель, не ставя при этом под сомнение идеи непрерывного роста производительности, валового национального продукта и прибыли.
В несколько гротескном проявлении мировое возвращение меркантилизма становится ответом на вопрос, которым в 1970-е и 1980-е задавался Римский клуб: «Существуют ли пределы роста?» Можно предположить, что к середине 2010-х годов российские власти пришли к выводу: пределы национального роста при использовании неолиберальных технологий управления достигнуты, производительность труда стагнирует, а роль России в мировой экономике и политике остается периферийной. Схожие мотивы в националистической риторике Трампа и его окружения ясно дают понять, что они опасаются утраты ведущих позиций в мировом состязании и периферизации американской экономики. Манипулируя торговыми тарифами и запретительными мерами, они рассчитывают вернуть ряду стран, включая европейские, колониальное положение — пускай и потеряв в немедленной прибыли.

На этот вызов периферизации можно реагировать по-разному. Неолиберальный ответ состоял бы в том, чтобы еще сильнее размыть границу между трудом и отдыхом, геймифицировать мировой рынок труда, инвестировать в его максимальную автоматизацию. Меркантилистский ответ иной: замкнуться на своей территории, перейти к импортозамещению и колониальной торговле, добиваться от своих граждан исполнения долга, заставив их, наконец, работать и умирать за свою страну, а окружающих — «нас» уважать.
Даже если такая стратегия не приведет к завоеванию выдающихся позиций на мировой арене, не ведет она и к мгновенному краху национальной экономики. Это доказывают российские военные годы: социальное расслоение продолжается, но приемлемый уровень жизни может сохраняться в условиях такой полузакрытости годы, а может быть и десятилетия. Особенно если население сохраняет покорность, массово не протестует и не слишком «раскрывает рот». Такая модель национального благосостояния близка к пиночетовскойМодель авторитарного государства Аугусто Пиночета сочетала жесткий политический контроль с радикальными рыночными реформами, вдохновлёнными идеями чикагской школы. После военного переворота 1973 года режим ликвидировал демократические институты, подавил оппозицию и установил репрессивную диктатуру, но при этом передал управление экономикой технократам, которые провели масштабную либерализацию, приватизацию и открытие Чили для глобальных рынков. Эти реформы привели к устойчивому экономическому росту, снижению инфляции и постепенному повышению уровня жизни, особенно в долгосрочной перспективе, что сделало пиночетовскую модель одним из наиболее обсуждаемых примеров «экономического чуда» при авторитарном режиме. .
В действиях Трампа очевидна предрасположенность к пиночетовским рецептам, включая его отношение к гражданскому протесту. Возможно, самый серьезный вопрос в этих обстоятельствах — включает ли в себя трамповский план «великой Америки» военную экспансию. И здесь мы возвращаемся к пункту о «безумии», которое приписывали Путину в 2022 году. Такое прочтение предполагает, будто военное вторжение — это срыв, полная утрата рациональности. Однако в действительности речь идёт о другом типе рациональности — жёсткой и прагматичной логике, где война выступает инструментом для достижения экономических и политических целей.
Важно отметить, что меркантилизм Трампа имеет ярко выраженный торговый оттенок. В своих речах он требует возвращения производств в США, чтобы американские автомобили, техника и джинсы вновь заполнили полки супермаркетов. Он рассчитывает обеспечить американскую промышленность доступом к сырью, необходимому для производства микрочипов и лекарств.
При этом он также предлагает вернуть Америке ее былое величие через усиление армии и обороны, подчеркивая необходимость укрепления границ перед лицом надвигающихся угроз — как экономических, так и военных. Одна из тем трамповских декретов и выступлений — обеспечить стране собственный запас стратегических ресурсов меди, алюминия и стали. В этих пунктах грань между торговым меркантилизмом и военным стирается.
На таком фоне даже звучавшие как анекдот претензии Трампа на Гренландию и Канаду, сделанные в первые недели его второго срока, звучат не так уж комично. С учетом бюджетной и внешнеполитической логики новой администрации они обретают зловещее правдоподобие. Нельзя исключить, что за решениями о реструктурировании военного бюджета и масштабных расходах на оборону в 2026 году — рекордных в истории США — стоит прагматичный расчет: американская экономика должна развиваться с перспективой участия в вооруженном конфликте.
Большую часть своей истории капитализм не был либеральным
Среди тотальных торговых пошлин Трампа заметно одно исключение: золотые слитки, Американский государственный золотой резерв, к слову, остается крупнейшим в мире — более восьми тысяч тонн против двух тысяч российских. До отмены золотого стандарта в 1971 году он был почти в три раза тяжелее. Значительная его часть была распродана, и с тех пор объем практически не менялся. Если администрация Трампа снова займется пополнением госрезерва золотом — вслед за правительствами России, Китая, Турции, Венгрии или Польши, это прозвучит серьезным сигналом. С большой долей вероятности это будет означать начало подготовки к войне.
В связи с этими процессами как в российской, так и в американской политике все чаще звучит термин «нелиберальный капитализм»«Нелиберальный капитализм» — система, где сохраняется рыночная экономика, но ключевые институты ограничивают принципы свободной конкуренции и демократии. Чаще всего этот термин применяют к странам вроде Китая, России или Турции, где авторитарные режимы сочетают рынок с сильным государственным контролем и патронажными сетями. Исследователи подчеркивают выборочную протекцию и стратегическое вмешательство государства для поддержки «национальных чемпионов». Такие модели сохраняют высокий уровень неравенства и подавляют независимые институты. В американском дискурсе их часто рассматривают как конкурентную альтернативу либеральному капитализму. . Все больше аналитиков предполагают, что именно он станет доминирующей формой политического устройства в ближайшие десятилетия. Насколько вероятным вам это кажется?
Строго говоря, большую часть своей истории капитализм не был либеральным. Достаточно взглянуть на Британскую империю 17–18 веков, которая была весьма далека от идеалов демократии. И речь не только об управлении колониями. Торговые монополии на территории, произвольно вводимые налоги, принудительный труд для бедных и бродяг, экспроприация общественных земель крупными владельцами в ходе огораживания плохо совместимы со свободной инициативой. Прибавьте к этому имущественный ценз, голод и эпидемии в бедных кварталах растущих городов, отсутствие страховок у ремесленников от разорения и пополнение армии рядовыми из беднейших слоев, пока офицерские звания официально продавались знати.
Либеральный капитализм становится универсальной политической и экономической моделью лишь после Второй мировой войны. И это рисует жестокую — почти киберпанковскую — картину возможного будущего, в которое мы уже понемногу перемещаемся.
Несмотря на успехи искусственного интеллекта и автоматизации, в этом будущем нас может ожидать вовсе не всеобщий базовый доход, а отказ от социального государства и система управляемого неравенства. Современные элиты — ультраконсервативные правительства, пришедшие или идущие к власти — пытаются сохранять свою избирательную базу и вряд ли примутся за мгновенное сворачивание социальных программ. Пока радикальные проекты бюджетной экономии оспариваются даже в России. Но сам факт, что уже в глазах неолиберальных элит прежнее социальное государство было дискредитировано как источник «иждивенчества» и «брошенных на ветер» расходов — говорит о том, что идущие за ними неомеркантилисты могут действовать решительнее.
Если социальное государство рухнет, ничто не помешает нам оказаться в новой версии глобального 18 века. Это будет не просто откат в прошлое, а нечто более футуристически мрачное — 18 век с искусственным интеллектом, с дронами, патрулирующими улицы и подавляющими городские восстания бедноты. Один из вероятных сценариев — усиление сегрегации городских пространств, создание своего рода «золотой клетки» для богатых, а для остального населения — жесткий полицейский контроль вместо социальной защиты.
Обратившись к данным исторической социологии, можно убедиться: периоды упадка жизненного уровня большинства населения могут быть чрезвычайно длительными. Иммануил Валлерстайн, предложивший масштабный анализ мировой экономики, показал, что один из пиков экономического благополучия в Европе пришелся на середину 15 века. На восстановление того же уровня реальных зарплат в европейских экономиках потребовалось несколько столетий. Это произошло только к середине 19 века.
Да, перспективы не самые обнадеживающие. Но стоит напомнить, что в 18 веке произошла и Великая французская революция. И это, как ни парадоксально, тоже часть той эпохи — ее ответ на несправедливость, неравенство и попытки законсервировать старый порядок.
Вы правы, важно не забывать о борьбе за низовую демократию, практиках гражданской и публичной сферы, политических утопиях. Именно в 17–18 веках берет начало масштабный редизайн институтов власти, когда возникает и публичная сфера, и амбивалентная фигура государства, без которого невозможна ни масштабная переделка мировой экономики, с ее колониальными войнами, ни универсальное право, с его индивидуальными гарантиями. В самой экономике меркантилистская эра, как подчеркивает Валлерстайн — не простая рецессия: продолжается накопление ресурсов, создаются предпосылки для будущего подъема. Экономика как система не умирает — она реорганизуется.
Но одно дело — наблюдать за историческим процессом с высоты птичьего полета, в момент подъема. Совсем другое — осознавать, что прямо сейчас мы в начале долгого спада. И что этот спад не просто снижает темпы роста, а затягивает нас на более глубокие уровни коллективного неравенства, бедности и социальных напряжений.
Это осознание усиливает нашу ответственность — гражданскую и интеллектуальную. Мы больше не сможем укрыться за коллективным чувством материального благополучия. Не только из-за текущей войны, но и ввиду опасного будущего. С наступлением нового меркантилизма рассеивается иллюзия стабильности, которая так долго нас сопровождала.