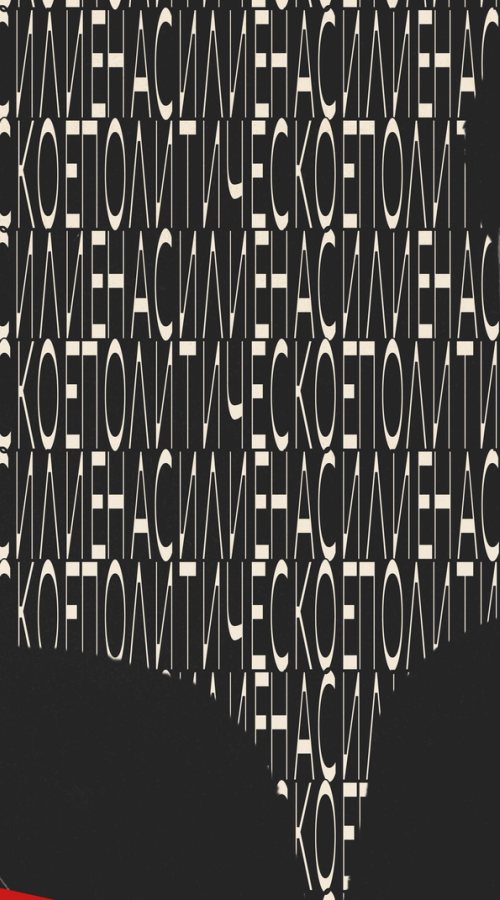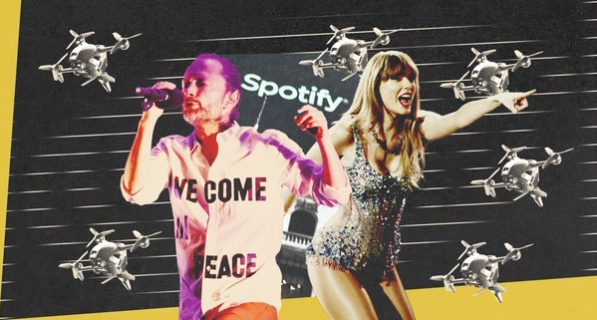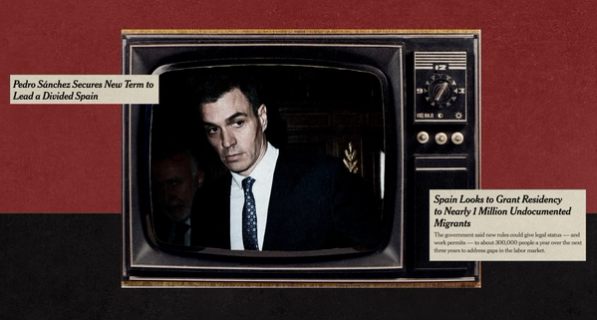Если вы находитесь в России или планируете в нее возвращаться, вам нельзя репостить наши материалы в соцсетях, ссылаться на них и публиковать цитаты.
Подробнее о том, что можно и нельзя, читайте в карточках.
Кейс Луиджи Манджоне, застрелившего главу страховой компании, убийство американского правого активиста Чарли Кирка — кажется, что подобные нападения из политических соображений все чаще мелькают в заголовках. И эти случаи вскрывают не столько радикальность отдельных людей, сколько пустоту политического поля, где ни одна организованная сила больше не способна выразить накопившееся народное недовольство.
Так почему в обществе растет запрос на насилие и допустимо ли использовать его как метод борьбы? Рассуждает Кристина Размаева, автор канала про французскую политику «алло, макрон» и научная сотрудница университета Сорбонны.
- ИллюстраторИллюстраторВитя Ершов
- Публикация31 октября 2025 г.
Когда люди переходят к радикальным действиям?
Народный гнев, выраженный в форме насилия против правящего класса, редко вспыхивает внезапно и столь же редко сохраняет свою силу надолго. Пример «Желтых жилетов»Спонтанное движение, возникшее в 2018 году в ответ на повышение цен на бензин. Активные митинги продолжались вплоть до пандемии коронавируса, сделав кампанию самой продолжительной протестной акцией в истории современной Франции. во Франции — яркая иллюстрация того, как народный протест может терять силу под влиянием манипуляций власти.
Когда осенью 2018 года люди стихийно вышли на улицы, новый налог на топливо и повышение цен на бензин стали спусковым крючком после десятилетий обманутых ожиданий. Люди, привыкшие каждый день проезжать десятки километров до работы, почувствовали, что с них требуют платить за элиту, банкиров — за тех, кто, как казалось, никогда ничем не жертвует.
Ответ власти оказался прост: создать видимость диалога. После недель столкновений и блокад президент Эммануэль Макрон объявил о «Великом национальном обсуждении». Чтобы показать готовность «слушать народ», местным мэрам поручили открыть в своих мэриях специальные тетради жалоб, куда любой гражданин мог вписать все, что его волнует.
Эти тетради стали отголоском времен Великой французской революции 1789 года, когда подданные составляли списки требований и обид к королю. Именно через них тогда народ впервые «заговорил» политическим языком.
Макроновские тетради жалоб тогда заполнили сотни тысяч людей по всей стране. Но собранные тексты вскоре оказались в архивах префектур, где их постигло забвение. Обещанный «диалог» превратился в аккуратные страницы с жалобами, которые никто не собирался читать — попытку разрядить протест без реальных перемен.
Однако когда накопленный опыт унижений перестает растворяться в обещаниях и имитациях диалога, народ снова ищет выход, и если слова оказываются бессильны, на первый план выходят радикальные действия.
Разве насилие эффективно?
Во Франции волны увольнений, длящиеся уже сорок лет, косвенно влияют на смертность. По данным французского института медицинских исследований INSERM, от 10 до 20 тысяч смертей в год (не считая суицидов) так или иначе связаны с безработицейС 1995 по 2007 год институт наблюдал за 6 000 добровольцев в возрасте от 45 до 64 лет, чтобы изучить влияние безработицы на сердечно-сосудистое здоровье и общую смертность. На основе полученных результатов исследователь сделал прогнозы, опубликованные в декабре 2014 года в журнале International Archives of Occupational and Environmental Health. . Но власти выработали способ смягчить восприятие экономической ситуации: представить происходящее как историческую неизбежность, объясняя, что орудия труда и те, кто ими пользовался, устарели.
На протяжении десятилетий, а особенно в последние десять лет, французское государство вливало деньги налогоплательщиков в карманы промышленных предприятий, чтобы стимулировать их оставлять производство внутри страны. Но эти средства в итоге оставались у акционеров. Ежегодно 200 миллиардов евро государственных средств субсидируют частные компании якобы для поддержки промышленности и борьбы с безработицей.
Однако это не приносит результата. При этом это присвоение государственных средств акционерами никогда не называют в местных СМИ или в политике «насилием». Скандал — да. Злоупотребление — да. Но не насилие. Ведь насилие подразумевает наличие ответственного и жертвы. А ответственность руководителей в процессе приватизации общественных богатств постоянно отрицается, в то время как жертвы оказываются невидимыми. Насилие же рабочих и граждан, протестующих против этого процесса, напротив, мгновенно квалифицируется как «насилие».

В мае 2017 года рабочие завода GM&S в коммуне Ла-Сутеррен установили взрывное устройство прямо в центре своего завода, которому грозило закрытие. На кислородном баллоне была надпись: «Мы все взорвем». Эта акция вынудила представителей правительства Макрона приехать и начать переговорыРабочие обратились напрямую к министру экономики и финансов (на тот момент Бруно Ле Мэр), требуя гарантий по сохранению рабочих мес. в Минфине, поскольку французское государство являлось акционером главных заказчиков завода — автопроизводителей.
Несколькими годами ранее, после финансового кризиса 2008 года, репертуар рабочих протестов против угрозы безработицы расширился до взятия руководителей в заложники и актов физического запугивания администраций.
«Мы видим, как наш завод закрывается в экономически разоренном регионе, где наши дети уже без работы… Что нам терять?»
Объяснял журналистам работник предприятия, участвовавший в акции против своей руководства, которому пришлось эвакуироваться.
К чему привели эти вспышки протеста? В случае с GM&S, внимание СМИ и эскалация позволила добиться переговоров, частично с положительным исходом (производственная площадка была сохранена, хотя и с меньшим числом работников). То же происходило и во многих других компаниях, где вспыхивали подобные конфликты. Иными словами, в мире труда конфликт окупается.
Почему тогда пацифизм выходит на первый план?
В своем эссе 2014 года американский активист Питер Гелдерлоос рассуждает, как стиралась насильственная сторона успешных социальных движений. Так, он полагает, например, что успех независимости Индии своится к бойкотам, организованным Ганди; движение за гражданские права в США — к речам и мирным маршам, организованным Мартином Лютером Кингом. Однако эти кампании сопровождались и насильственными акциями. Более того, их отдельная заслуга состояла в том, что потенциал насилия вызывал страх у тех, кто находился выше в иерархии. Это способствовало балансированию сил — иногда даже больше, чем само насилие.
Летом 1789 года, вскоре после взятия Бастилии, «великий страх» охватил французскую аристократию и духовенство. В Париже, где заседала новорожденная Национальная ассамблея, распространялись слухи о восстаниях крестьян и создании деревенских милиций, а также о нападениях на сеньоров. Этот «великий страх», который анархист-историк Петр Кропоткин назвал первой «буржуазной паникой», возможно, не опирался на конкретные факты, но придал обсуждениям Ассамблеи более радикальное направление. В ночь с 4 на 5 августа 1789 года она проголосовала за отмену привилегий дворянства — чтобы успокоить крестьянство.
Появление оплачиваемых отпусков во Франции в 1936 году часто описывается как следствие мирной победы «Народного фронта»Объединение трех левых партий, победившее на парламентских выборах в 1936 под руководством социалиста Леона Блюма. на выборах. Но на самом деле это стало результатом мощного протестного движения, в том числе захватов фабрик. Именно благодаря ним рабочие добились 40-часовой рабочей недели и двух недель отпуска. И если тогда крупнейший французский профсоюз CGTВсеобщая конфедерация труда. Создана в 1895 году. действительно пропагандировал саботаж, то его нынешнее руководство присоединилось к сторонникам «социального диалога». Ради этого старые формы насильственных действий были трансформированы в символические акции, призванные лишь показать численность и недовольство.Даже крупные забастовки, которые на местном уровне остаются эффективным средством давления, на национальном уровне сегодня, скорее, превращаются в перформансы. Забастовки длятся один день, заранее запланированы и позволяют профсоюзным конфедерациям продемонстрировать «потенциал» своей акции. Такие обезвреженные формы действий могли бы внушать страх, но за последние двадцать лет всем — и протестующим, и начальству — стало ясно, что они всегда останутся в рамках дозволенного, а значит, не представляют угрозы.
Оправдывает ли результат средства и есть ли он вообще?
В феврале 2025 года перед судом над Луиджи Маджоне, застрелившем главу страховой компании, кто-то вложил в носки, который он должен был надеть перед слушанием, записку: «Знай, что есть тысячи людей, которые желают тебе удачи».
Хотя у Маджоне действительно появилось множество фанатов, увидевших в нем символ борьбы с несправедливостью, Ленина бы он не особо впечатлил. Радикальный и насильственный индивидуализм убийцы генерального директора большой корпорации — это современная версия того, что Ленин называл революционным авантюризмом.
С точки зрения Ленина, это жертвенные действия против представителей власти, предпринимаемые отдельными людьми, которые заявляли о своей принадлежности к делу революции, но не участвовали в построении коллективного освободительного движения. Отказ же от революционного авантюризма основывается на особом понимании социальных изменений: если мы хотим перемен, простое отсечение нескольких голов не приведет к результату и сохранит систему неприкосновенной.
Проблема еще и в том, что доктрина «цель оправдывает средства» со временем превратила средство в самоцель. Так, после неудачных революционных попыток весной 1968 года во Франции сформировались несколько французских ультралевых групп для ведения насильственных действий. Организация «Прямое действие» (Action directe) взяла на себя ответственность за почти 80 терактов и убийств между 1979 и 1987 годами.

В Италии схожую деятельность вели «Красные бригады» — в 1978 году они похитили, а затем убили президента христианской партии Альдо Моро, когда тот собирался подписать исторический компромисс с Итальянской коммунистической партией.
В «послужном списке» обоих организаций — убитые водители, охранники, раненые дети и профсоюзные деятели. Их насилие часто описывалось противниками как слепое, чрезмерное, несоразмерное. Использование насилия может привести к замкнутому кругу: «я применяю насилие — за это меня наказывают — я мщу — снова применяю насилие» и так далее. В итоге месть оправдывала значительную часть действий радикальных групп 1970-х годов, все дальше уводя их от заявленной цели — революции.
Но как выйти из этого порочного круга? Как показывать серьезность протестных намерений без того, чтобы превращать насилие в самоцель? Эти вопросы, на мой взгляд, — центральные для революционного размышления. Игнорировать их — значит отказаться убеждать тех, кто боится идеи революции.
В глобальном масштабе мы живем в эпоху роста насилия на уровне войн и радикализации господствующего класса, что, возможно, делает мягкий пацифизм как единственную форму сопротивления еще более абсурдным. С одной стороны, мы сталкиваемся с физическим и измеримым насилием, которое ежедневно приносит смерти. С другой, мы переживаем и более скрытое насилие — моральное, философское, связанное с отрицанием этой реальности.Я хотелa бы завершить текст, обратившись к читателям. Как вы считаете, можем ли мы выжить без обращения к гражданскому неповиновению в ближайшие десятилетия? Без усиления радикальности наших индивидуальных и коллективных действий?