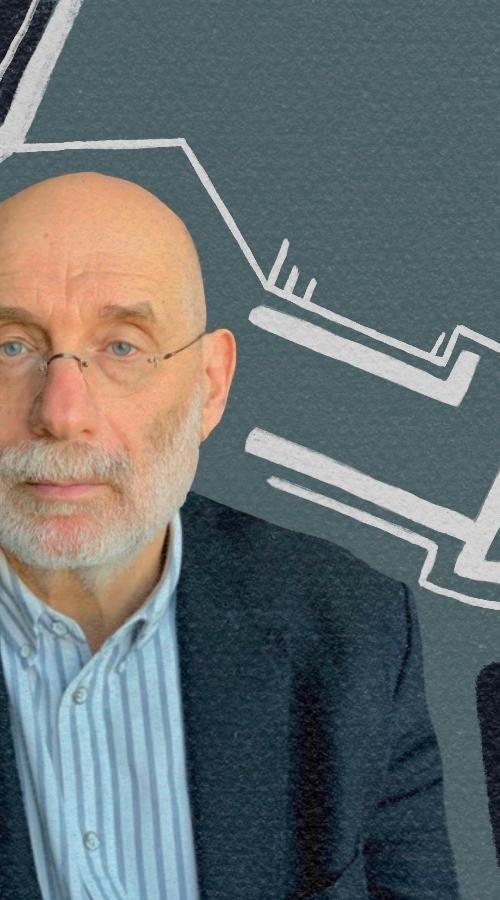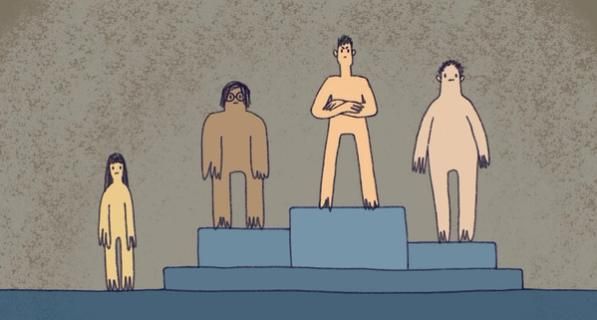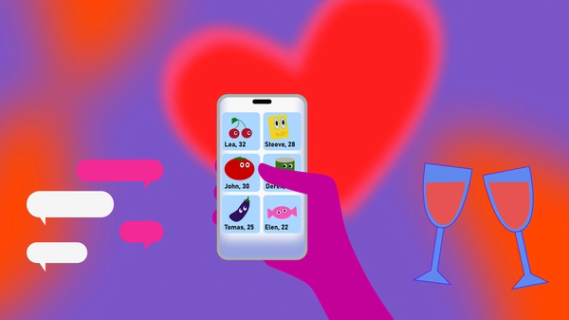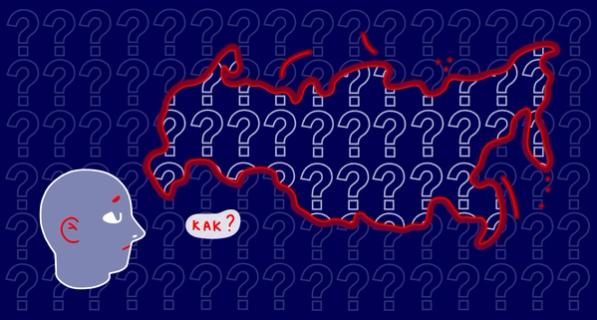Если вы находитесь в России или планируете в нее возвращаться, вам нельзя репостить наши материалы в соцсетях, ссылаться на них и публиковать цитаты.
Подробнее о том, что можно и нельзя, читайте в карточках.
В последние годы в России государство наступательно расширяло свой контроль над сферой образования. Сегодня большинство руководителей российских вузов аффилированы с партией власти, президент регулярно напоминает о необходимости единого учебника истории, а для ведения любой просветительской деятельности теперь необходимо получать разрешение. На фоне этой центробежной силы, стремительно захватывающей российский учебный процесс, редактор DOXA Герман Нечаев поговорил с писателем Борисом Акуниным о его книгах, историческом российском конфликте государства и общества и о том, что связывает образование будущего и национальную идею.
- РедакторРедакторАлексис де Токвиль
- РедакторкаРедакторкаСофия Анисимова
- Публикация29 апреля 2021 г.
Как и вы, я окончил Институт стран Азии и Африки МГУ. Почему вы выбрали востоковедение в ИСАА?
Меня в подростковом возрасте очень интриговала Япония, она казалась мне каким-то Марсом. В МГИМО для обычного парня вообще никаких лазеек не было, да и не интересовала меня дипломатическая или внешнеторговая карьера. При ИСАА же существовала для старшеклассников «Школа молодого востоковеда» — в мое время двум лучшим выпускникам она давала свои рекомендации. Их учитывали на собеседовании, а это было главное рубилово, на котором допускали или не допускали к экзаменам.
Каким студентом вы себя помните? Вы представляли собой пример классического советского студента или наоборот?
Я был дурак дураком. Занимался я в основном тем, что бегал за девушками и выпивал с друзьями. В этом смысле я, конечно, был классическим студентом, и не только советским, а вообще.
Что из себя представляло советское студенчество? Насколько было возможно проявлять свою индивидуальность, политическую позицию и кооперироваться в университетском сообществе, если были не близки идеи КПСС?
ИСАА был довольно тухлым заведением. Какая политическая позиция в семидесятые годы, господь с вами! Никто, конечно, в коммунистическую лабуду не верил, но никому в тогдашнем моем кругу, кажется, и в голову не приходило задумываться о политике. Советский Союз представлялся чем-то вечным.
Насколько гуманитарное образование в СССР было актуально? Как вы оцениваете свой опыт высшего образования в Советском Союзе?
Языкам и японистике учили очень неплохо. У меня потом была возможность сравнить свой уровень с уровнем студентов-японистов из западных университетов, и я увидел, что палочная советская дисциплина (с контролем посещаемости) работает лучше. К сожалению, примерно треть учебного времени расходовалась на «закон Божий», как тогда называли историю КПСС, научный атеизм, истмат-диамат и прочую идеологическую обязаловку.
Вузы в России стали современными, но на фоне — коррупция и пропаганда
Разбираем на трех примерах. Спрашиваем у вас, как учиться в такой среде

В последние годы вы активно изучаете историю России, недавно вышел восьмой том вашего сборника «История Российского государства». У меня есть ощущение, что дискурс современной российской власти вращается вокруг государства, а общество и государство в нем будто тождественны. Почему вы выбрали путь изучения российской государственности, ведь, например, история людей и общества не менее важна и интересна?
Меня как раз интересует эволюция взаимоотношений Государства и Общества. Они совсем, совсем не тождественны, скорее наоборот. Но в России государство возникло намного раньше общества. Ему уже пять с половиной веков, а Обществу [авторское написание сохранено — DOXA] всего двести лет. Поэтому история России в первую очередь (в хронологическом смысле) — история государства.
Традиционное образование ориентировано главным образом на то, чтоб сделать подрастающего гражданина беспроблемным для общества. Это, конечно, важно, но это все равно что драгоценными книгами растапливать камин.
Вы пришли к выводу, что Россия исторически — государство «ордынского» типа: с высокой степенью централизации, строгой иерархией, фактически сакральностью верховного правителя. Какую роль в этом процессе вы отводите обществу? Можно ли сказать, что кто-то «виноват» в том, что мы оказались в той точке, в которой находимся?
Дело не в вине, а в государственной архитектуре. Сверхцентрализованное государство подобного типа не может существовать в демократическом режиме. Поэтому с возникновением Общества и начинаются противоречия между фундаментом и выросшими наверху этажами. Тут нужно, наверное, пояснить, что под Обществом я имею в виду не всю массу населения, а ту его часть, которую принято называть «думающей», хотя верней было бы сказать «думающей о политике». Позволяют ли заключения, к которым вы пришли в своих книгах, лучше понять события и явления, которые мы наблюдаем здесь и сейчас? Можно ли вообще проводить какие-то параллели?
Можно и нужно делать выводы. Мой главный таков: от сверхцентрализма нужно избавляться. Он свою историческую роль уже отыграл и теперь мешает стране нормально развиваться. Будущее России — в настоящей, не номинальной федеративности, а может быть, и в конфедеративности. Но это тема для отдельного большого разговора.
Вы говорили, что России нужна национальная идея, которая сделает осмысленным и обоснованным проживание людей в едином государстве, и что такой идеей может стать создание самой эффективной системы образования в мире. Почему именно образование должно стать центральным приоритетом для наделения этого государства смыслом?
Главное мое разочарование в жизни — осознание того, что нас, людей, очень плохо учат жить на свете. 99,9% живут и умирают, так и не поняв, для чего они родились. Многие даже и не пытаются в этом разобраться. Это ужасно — и для личности, и для общества. В результате мир населен людьми, которые чувствуют бессмысленность или малоосмысленность своего существования. Самая распространенная психотерапия: «Я живу ради своего ребенка — пусть он будет счастливей меня». Ребенок вырастает, тоже ни черта не понимает про себя и передает эту мантру эстафетой: «Пусть мой ребенок будет счастливей меня».
Приоритетность педагогики — отличная национальная идея, потому что у всех есть дети: у либералов, у государственников, у любителей радио «Шансон», у завсегдатаев филармонии.
По моему глубокому убеждению, смысл каждой отдельной жизни в том, что всякий, без исключения всякий человек представляет собой потенциальное сокровище. Он может делать нечто ценное лучше всех на свете. И главная, стратегическая задача образования/воспитания заключается в том, чтобы помочь человеку найти в себе этот клад.
Традиционное образование ориентировано главным образом на то, чтоб сделать подрастающего гражданина беспроблемным для общества. Это, конечно, важно, но это все равно что драгоценными книгами растапливать камин.
Представьте себе страну, в которой живут только состоявшиеся люди. Им нечего делить, нечему завидовать, и они все относятся друг к другу с уважением. Потеря каждой жизни — огромная, невосполнимая утрата. Незаменимы все. И поэтому человеческая жизнь стоит очень дорого. Конечно, такая страна — утопия, но это утопия, к которой имеет смысл стремиться. Потому что даже половина, четверть, десятая часть пройденного пути уже будет для человечества огромным рывком.
Приоритетность педагогики — отличная национальная идея, потому что у всех есть дети: у либералов, у государственников, у любителей радио «Шансон», у завсегдатаев филармонии. И все хотят, чтобы их дети были счастливы. Построить образовательную систему, способную реализовать эту гигантскую задачу, способно только государство.
На чем будет основана новая образовательная система? Сколько времени может понадобиться, чтобы выстроить ее? Есть ли уже сейчас страны, которые взяли на вооружение похожие принципы и движутся в том же направлении?
В основе [новой образовательной системы] должна быть тщательно разработанная Методология (у меня в романе «Трезориум» она называется Schatzsuche, «Поиск сокровища»). Я занимался этим вопросом, когда собирал материал [для книги], и у меня создалось впечатление, что начинать нужно с пятилетнего возраста, когда маленький человек уже не просто воспринимает поступающую информацию, а начинает ее «обрабатывать», учится делать выбор. Это самое важное искусство на свете.
Я бы начал с детских садов нового типа — [работающих] по принципу, описанному в «Трезориуме». Когда за каждым ребенком наблюдают несколько профильных специалистов и бережно, постепенно нащупывают код, которым можно открыть этот сейф. Понадобится несколько лет, чтобы методом проб и ошибок отточить методологию. Тогда можно двигаться дальше — к школе нового типа. Когда я говорю про «ошибки», нужно учесть, что они никакого вреда детям не принесут; просто возможны неверные диагнозы — в будущем их можно скорректировать.
Мне неизвестны подобные эксперименты в современном мире. Но есть несколько стран, где педагогика считается приоритетно важным делом: к примеру, Люксембург и Финляндия. По крайней мере, там учителям платят очень высокие зарплаты, а это уже шаг в верном направлении.
«Тюрьма есть, куда детей садят, а детских медиков нет в этой тюрьме»
Интервью с мамой подростка Егора Балазейкина, который может сесть в тюрьму на 10 лет за антивоенную акцию

Еще в одном вашем романе, «Азазель», у воспитанников тоже старались развивать наиболее сильные стороны, но их не всегда можно было назвать полезными для них самих и для общества. Что поможет предотвратить развитие деструктивных начал в образовательной системе «прекрасного будущего»?
Леди ЭстерЛеди Эстер из романа «Азазель» основала «эстернаты» — благотворительные учреждения по воспитанию сирот. Согласно мнению Эстер, в каждом ребенке есть талант, который необходимо развивать. Она пыталась развивать эти таланты согласно принципу «цель оправдывает средства», и эстернаты выпускали не только талантливых ученых и политиков, но и профессиональных убийц из моего романа использовала своих воспитанников как инструмент, как средство для достижения неких целей. А человек не средство, он и есть цель. Извините за трюизм, но это тест, по которому проверяется любое начинание. И прекрасное государство будущего будет руководствоваться именно этим законом.
Насколько большую роль должно играть государство в идеальной образовательной системе?
Без государства национального проекта не получится. На первом этапе, конечно, систему могут разрабатывать частные спонсоры, но никаким миллиардерам не под силу выучить столько педагогов и построить столько школ. Конечно, это должно быть совсем другое государство. Государство, единственной идеологией которого будет счастье граждан. Под счастьем я имею в виду полную возможность самореализации для всех без исключения.
А какую задачу при такой системе будет выполнять университет?
К окончанию школы юный человек должен хорошо понимать, в какой стороне света зарыт его «клад»: на юге, севере, западе или востоке. Каждая следующая ступень образования станет уточнением геолокации: поворачивай на юго-запад, теперь на юго-юго-запад, теперь на столько-то градусов, на столько-то минут, на столько-то секунд. Теплее, теплее, теплее, горячо! Копай здесь.
Насколько реально воплощение системы, которую вы предлагаете, в современной России? Или мы говорим о далекой перспективе, когда государство и общество будут совсем другими, более подготовленными?
На первом, экспериментальном, этапе, полагаю, вполне возможно попробовать и в нынешних условиях. Понадобится спонсор и небольшая команда. Сначала нужно будет разработать технологию. Потом открыть на частные средства «трезориум», детский сад нового типа, куда будут принимать не специально отобранных, а совершенно обычных детей. Например, по жребию. Полезно было бы организовать онлайн-наблюдение, чтобы люди могли следить за работой педагогов и развитием детей. На британском телевидении был замечательный цикл передач «Тайная жизнь пятилеток», там детские психологи за кадром комментировали поведение пятилетних малышей — захватывающе интересно. Если эксперимент окажется удачным, а его презентация — интересной, дело может какое-то время расширяться на частные пожертвования.
Мне кажется, что любовь к родине возникает не из-за гордости за былые успехи, а скорее из сочувствия и жалости
Нет ли у вас желания самому заняться созданием экспериментального «трезориума»?
Нет, я ведь не педагог. Я литератор. У меня другие задачи. Две трети жизни ты собираешь вопросы, которые задает тебе мир. Последнюю треть нужно потратить на то, чтобы попробовать найти ответы. Писатель отвечает книгами. Вот почему я затеял серию романов «Семейный альбом». Каждый из них — мой ответ на тот или иной важный вопрос. Не для того чтобы кого-то убедить или, упаси боже, научить. Нет, для самого себя. «Аристономия» — про то, есть ли в жизни смысл, и если есть, то какой. «Другой путь» — про то, что такое любовь и как с нею жить. «Счастливая Россия» — ну, понятно из названия. А четвертый, «Трезориум», — про то, почему человечество такое кислое и несчастное. Ответил — двигаюсь дальше. Есть следующая тема, над которой я ломаю голову.
Чему должна учить ребенка современная школа? Насколько образование должно быть практико-ориентированным?
Если говорить не о прекрасном будущем, а о современной школе и практически осуществимых целях среднего образования, то главная образовательная цель учителя — не вколотить в школьника некий объем знаний, а вызвать интерес или пускай даже просто любопытство к предмету. Существует и другая цель, подготовка к реальной жизни: базовые знания о собственном теле и здоровье; о самоанализе и саморазвитии; о психологии взаимоотношений; о социабельности. Эти вещи — самое главное, что каждому пригодится в жизни. И этому, увы, нас совсем не учат или учат недостаточно.
Несмотря на известные преимущества онлайн-образования, существует мнение, согласно которому обучение оффлайн — очное, кампусное, живое и требующее присутствия преподавателя — становится привилегией, которую не все себе могут позволить. Как вы к этому относитесь?
Я очень хорошо отношусь к расширяющимся возможностям онлайн-образования. Неравенство было и прежде, оно никуда не делось. Дети из социальных «верхов» или столичных семей в любом случае находятся в привилегированном положении. Это ненормально, но тут без коренной перестройки общества ничего не изменишь. Однако новые формы образования дают мотивированным молодым людям новый шанс. Что в этом плохого?
Нужно ли воспитывать чувство патриотизма, в том числе и в учебных заведениях?
Патриотизм — штука хорошая, но насильно в горло его запихивать не нужно, а то вырвет. Это ведь про любовь, а она казенной, государственной не бывает, и навязать ее невозможно. Болтовня про любовь тоже не работает. А еще мне кажется, что любовь к родине возникает не из-за гордости за былые успехи, а скорее из сочувствия и жалости. Потому что гордость только раздувает щеки, сочувствие же побуждает к действию, вызывает желание защитить, помочь, спасти.