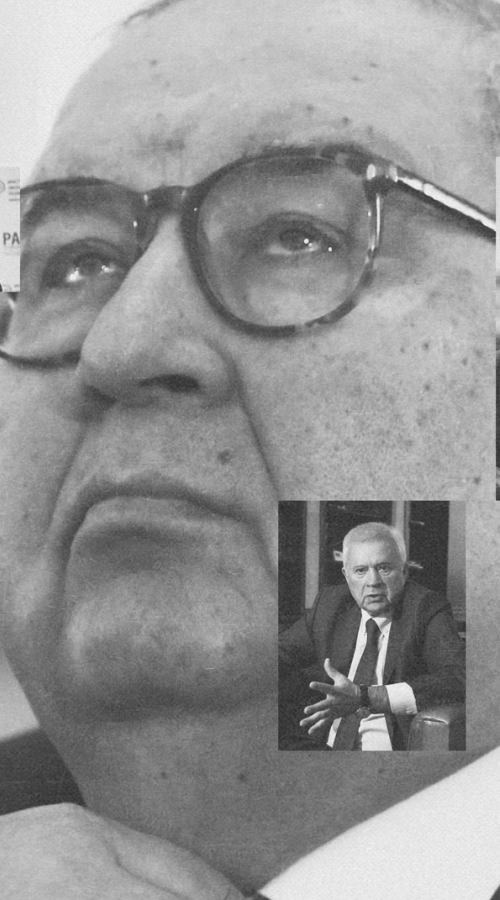Если вы находитесь в России или планируете в нее возвращаться, вам нельзя репостить наши материалы в соцсетях, ссылаться на них и публиковать цитаты.
Подробнее о том, что можно и нельзя, читайте в карточках.
Ослабление демократии, рост неравенства и климатический кризис напрямую связаны с концентрацией капитала в руках верхнего 1% населения планеты. В своей книге «Лимитаризм» философиня Ингрид Робейнс предлагает решение: она считает, что в демократических странах индивидуальное богатство должно быть ограничено в районе нескольких миллионов евро.
Политолог Федор Агапов рассказывает о том, почему Робейнс считает, что чрезмерное богатство несовместимо с демократией, и как она предлагает посчитать максимальное богатство.
- РедакторРедакторАрмен Арамян
- ИллюстраторИллюстраторВитя Ершов
- Публикация10 февраля 2025 г.
Церемония вступления Дональда Трампа в должность президента США, прошедшая двадцатого января, вызвала небывалый резонанс по всему миру. Некоторые наблюдатели даже назвали эту инаугурацию самой странной в истории Штатов, и на то есть свои причины: начиная с того, что Трамп не положил руку на Библию во время присяги, и заканчивая речью Илона Маска, во время которой он исполнил жест, максимально похожий на нацистское приветствие. В то же время внимание публики привлек не только сам миллиардер, но и тот факт, что из числа сверхбогатых он там был далеко не единственным.
При инаугурации Трампа видное место в помещении занимал целый ряд бизнесменов, чье совокупное состояние превышает триллион долларов. Такая «группа поддержки» из Джефа Безоса, Марка Цукерберга и других моментально вызвала в прессе обсуждения по поводу влияния миллиардеров на американскую политику и того, насколько оно совместимо с демократией. Актуальный вопрос, учитывая, что один только Маск потратил не меньше 277 миллионов долларов на поддержку Трампа и других республиканских политиков в 2024 году. Это, к слову, позволило ему получить должность главы вновь образованного «Департамента правительственной эффективности», благодаря чему теперь глава Tesla сможет влиять на внутреннюю политику США со вполне официальных позиций.
Впрочем, отрицательное воздействие сверхбогатых на окружающий мир не ограничивается одной электоральной политикой в Штатах. Если взять Россию, то только на момент 2020 года в руках богатейшего одного процента населения было сосредоточено 57% общего финансового благосостояния всего общества. Такая консолидация богатства в том числе позволяет Путину удерживаться у власти, защищая интересы олигархов и крупного бизнеса.

Тем актуальнее становится книга Ингрид Робейнс «Лимитаризм: доводы против экстремального богатства», опубликованная в прошлом году. В ней нидерландская философиня ищет решение для проблем, связанных с усилением влияния сверхбогатых. Тезисы Робейнс прекрасно ложатся и на постсоветскую почву: та же Россия, к примеру, упоминается в книге довольно часто.
Так что же такое лимитаризм и что он нам предлагает?
Предел богатства
Идея Робейнс заключается в том, что концентрация большого количества ресурсов в руках немногих рано или поздно приведет нас всех к катастрофе. В связи с этим она предлагает «создать мир, в котором никто не будет сверхбогатым, установив предел средств, которыми может обладать один человек». Эту идею она и называет лимитаризмом.
В основе своей концепция несложная, однако по мере знакомства с ней возникают вопросы. Например, о концентрации чрезмерного количества денег в одних руках. Слишком много — это сколько? И можно ли установить некий предел средств, которых было бы достаточно каждому, учитывая, что все люди разные?
Робейнс утверждает, что можно. Более того, она даже называет примерные цифры того, что можно считать приемлемым богатством в нынешних развитых странах: сумма эта лежит между одним и десятью миллионами евро на человека. Чтобы обосновать свою позицию, она говорит о трех подходах к определению максимально приемлемого богатства: черте богатства (по аналогии с чертой бедности), политическом пределе и этическом пределе. Познакомимся же с ними по порядку.
Много и слишком много — большая разница
Черта богатства — это уровень, после которого деньги больше не могут ощутимо повысить ваше качество жизни. Робейнс считает, что эту величину можно рассчитать, хотя и неточно. Для этого она опирается на ряд опросов, среди которых выделяются исследования, проведенные в Лондоне и Утрехте.
В обоих случаях авторы работ спрашивали у респондентов, как они воспринимают уровни богатства и различия между социальными классами. Результаты показали, что у людей есть схожее интуитивное понимание предела, после которого дополнительное богатство перестанет влиять на их уровень жизни. Кроме того, в утрехтском исследовании почти 100% респондентов сходились во мнении о том, где проходит граница между просто богатыми и сверхбогатыми.
В этом исследовании респондентам приводили в пример разные семьи и просили оценить их уровень жизни: богатый, если у семьи «больше, чем нужно для хорошей жизни», и сверхбогатый, если «никому не нужно столько богатства и роскоши». Так, около половины респондентов считали, что семья из четырех человек, которая может позволить себе шикарную виллу, второй дом, два роскошных автомобиля, три отпуска в год и 200 тысяч евро сбережений, уже не просто богатая, а чрезмерно богатая. Если же количество отпусков увеличивалось до пяти в год, а сбережения — до миллиона евро, то уже две трети респондентов считали такую семью сверхбогатой. Если сбережения и активы увеличивались до 10 миллионов, 94% респондентов относили семью к этой категории.
Для Робейнс остается открытым вопрос о том, зачем такой семье дополнительные средства сверх черты богатства. Однако дело не только в образе жизни и том, что кажется нам достаточным, — философиня видит повод для введения потолка на имущество еще и на нравственных основаниях.
Деньги и совесть
Этический предел — это максимальный уровень богатства, которым человек может владеть, исходя из моральных принципов. Он означает точку, после которой накопление любых дополнительных средств перестает быть оправданным и начинает вредить обществу.
Первое и самое простое объяснение заключается в том, что многие состояния в той или иной степени связаны с «грязными деньгами». Не стоит забывать, что миллиардеры происходят не только из бизнеса. Часто сверхбогатыми становятся, например, коррумпированные политики и диктаторы. Распоряжаясь деньгами, заработанными нечестным путем, они продолжают этот порочный круг. В качестве примера Робейнс приводит рост популярности европейских праворадикальных партий, нередко обвиняемых в получении денег со стороны российских элит.
Даже если чье-то богатство было заработано абсолютно законно, потребление, которое с ним связано, по-прежнему вредит окружающим. Богатым людям принадлежат большие дома, они больше путешествуют, меньше пользуются общественным транспортом, а также инвестируют в загрязняющие окружающую среду отрасли с целью дальнейшего заработка, что способствует изменению климата. Богатые несут большую ответственность за выброс парниковых газов в атмосферу, но не компенсируют этот ущерб окружающей среде, что в том числе позволяет им сохранять состояния. При этом негативные последствия ухудшения экологии наиболее остро ощущаются теми, кто меньше всего потребляет, а именно бедными.
Другая проблема заключается в том, что эти средства могут быть использованы для удовлетворения неотложных потребностей тех, кому повезло в жизни гораздо меньше, и в целом для содействия общему благу. Например, для борьбы с бедностью, развития науки, а также поддержки ключевой общественной инфраструктуры, включая больницы и школы.
Робейнс приходит к выводу, что этический предел богатства в развитых странах с хорошим социальным обеспечением равен примерно одному миллиону евро на человека. Свыше этой суммы жизнь условного нидерландца не становится лучше, а его накопления превращаются в избыток и балласт для общества. Однако, не все готовы добровольно признать этический предел и пожертвовать излишками собственных средств ради общего блага. В таких случаях возникает необходимость государственного вмешательства, и Робейнс обосновывает его, ссылаясь на политические последствия деятельности сверхбогатых.
Богачи против демократии
Здесь в игру вступает концепция политического предела. Это максимальный уровень индивидуального богатства, которого должно придерживаться общество, чтобы избежать излишнего влияния сверхбогатых на политику. Государство должно не допускать накопления состояний сверх этого уровня, поскольку сверхбогатые часто вмешиваются в политические процессы внутри и вне своих стран и таким образом подрывают демократические институты.
Это происходит несколькими способами. Во-первых, разумеется, сверхбогатые могут делать крупные пожертвования на политические кампании и партии. Как в случае с Маском и Трампом, денежные вливания делают политиков обязанными своим донорам, которые таким путем могут влиять на политику. Подобная система финансирования приводит к тому, что государство реализует политику в интересах богатых, а расходы на ее проведение при этом возлагаются на всех остальных. Это также определяет политическую повестку дня, поскольку кандидаты, поддерживающие интересы богатых, с большей вероятностью попадут в избирательные бюллетени.
Кроме того, сверхбогатые могут покупать СМИ и использовать их для контроля над распространением информации и общественной дискуссией. Это приводит к предвзятому освещению событий и продвижению политики, выгодной богачам. В качестве примера можно привести Руперта Мердока, который использовал свою медиаимперию для распространения дезинформации и теорий заговора. В России сверхбогатые тоже серьезно влияют на СМИ: множество изданий принадлежат олигархам, лояльным нынешнему режиму, что позволяет государству беспрепятственно распространять информацию в ключе, выгодном для диктатуры. Подобное манипулирование медиа может существенно подорвать доверие граждан к журналистике и в результате понизить уровень осведомленности общества о важных политических и социальных вопросах. В итоге падает «качество» демократических процессов, поскольку люди совершают выбор, основываясь на искаженной информации.
Взятые вместе эти факторы приводят к нарушению фундаментального демократического принципа «один человек — один голос». Интересы богатой верхушки становятся приоритетными, тогда как голоса и потребности обычных граждан игнорируются и выставляются чем-то маргинальным. В результате демократические институты, которые должны представлять интересы всех граждан, теряют свою эффективность, а доверие к самой демократии падает.
Чтобы противостоять этому влиянию, Робейнс предлагает установить политически обоснованный предел богатства, равный десяти миллионам евро. Согласно «Лимитаризму», эта сумма представляет собой определенный компромисс: она достаточно высока, чтобы позволить людям жить с комфортом и даже в роскоши, но в то же время усложняет покупку политического влияния. Правда, введение такого лимита потребует не только политического регулирования, но и пересмотра роли бизнеса в обществе, поскольку именно он способствует концентрации богатства. Как же должен выглядеть бизнес, по Робейнс?
Бизнес с социальной ответственностью
Было бы ошибкой считать, что лимитаристская философия близка к социализму. Хотя богатство отдельных людей, превышающее определенный уровень, уходит на перераспределение, частная собственность на средства производства остается и, как и прежде, продолжает играть очень большую роль в жизни общества. Из-за этого у людей остаются стимулы зарабатывать больше денег, пусть и в пределах условных десяти миллионов евро. Важно учитывать, что верхняя планка устанавливается на обогащение конкретных личностей, а не на обороты компаний, так что крупные фирмы продолжат существовать. Однако в условиях лимитаризма корпорации будут вынуждены более справедливо распределять прибыль между всеми заинтересованными сторонами, включая работников, а не только между владельцами и акционерами.
Такое распределение средств приведет к тому, что работники смогут вести более достойную жизнь. Это важное следствие из ограничения индивидуального богатства, потому что, как пишет философиня, «крайне низкие зарплаты рабочих и богатство миллиардеров тесно связаны между собой. Значительный рост благосостояния людей возможен, если акционеры или владельцы компаний будут довольствоваться разумной, а не безграничной прибылью».
Кроме того, практика лимитаризма, считает Робейнс, будет помогать в борьбе с монополиями. Ограничение верхнего уровня богатства для топ-менеджеров и акционеров должно снизить недобросовестную конкуренцию со стороны крупных компаний, которые доминируют во всех сферах и обладают ресурсами, не позволяющими новым игрокам выходить на рынок. Однако философиня понимает, что при прочих равных корпорации по-прежнему будут слишком сильны и одного только имущественного потолка может не хватить для предотвращения монополизаций. По этой причине она предлагает дополнительные меры государственного вмешательства по типу принудительного разделения чересчур могущественных компаний на более мелкие независимые фирмы для восстановления здоровой конкуренции.
Подобное ограничение на прибыли корпораций и их общее ослабление позитивно скажется на локальных и малых бизнесах, что, в свою очередь, может поспособствовать экономическому развитию ныне депрессивных регионов. В итоге, по задумке Робейнс, предприятия будут заниматься не только получением прибыли, но и выполнением определенной социальной роли: созданием рабочих мест, поддержанием местных сообществ и участием в решении их проблем. Эта мысль о связи между богатством и ответственностью является, пожалуй, одной из главных во всей книге Робейнс и проходит красной нитью через каждую ее главу.
Лимитаризм — это относительно молодая идея как в академической среде, так и в общественном дискурсе, однако неудивительно, что она смогла найти отклик у большого количества читателей. В своей книге Робейнс удалось нащупать интересный баланс между моральной ответственностью, которую богатые должны нести перед обществом, и сохранением стимулов для дальнейшего функционирования предприятий в рамках капитализма.
Эта идея представляет собой реалистичный способ перераспределения ресурсов, который не предполагает полного изменения привычных нам общественных механизмов, таких как рынок. Несмотря на их умеренность, сложно представить, что эти идеи будут воплощены, но даже их частичная реализация позволит создать более справедливый мир, в котором богатство и процветание будут служить всем, а не только узкому кругу избранных.